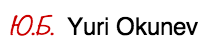СМЕРТЬ ВЕЛИЖСКОГО РЕЗНИКА
Рассказ
Ветер взвыл, обжег холодом лицо и швырнул горсть сухого снега в щель между воротником пальто и ушанкой. Дрожь прошла по телу, и он испугался, что это конец. Он знал за собой эту слабость – неудержимую дрожь. Едва начавшись от холода cнаружи, с плеч вздрогнувших, она вдруг уходила вглубь и сотрясала все тело, нарастая безудержно. Все внутри как будто леденело, и заледенелое содрогалось мелко, и казалось вот-вот остановится сердце. И ничто кроме тепла не могло остановить эту дрожь. Только потоки тепла, мягкие теплые потоки, теплое облако вокруг могли унять эту дрожь.
Но тепла нет и никогда уже не будет, тепло ушло куда-то из этого города, покинутого Всевышним. Тепло и хлеб ушли из этого города, отринутого Всевышним. Он напряг, как мог, своё легкое тело, наклонил его вперёд, чтобы потянуть санки с ведром посильней, и сделал несколько шагов. Ведро с водой примерзло к санкам, и он не боялся, что оно опрокинется. И в воду он положил деревянные рейки, чтобы не расплескалась, но мороз уже прихватил и рейки. Он задышал в воротник часто и сделал ещё несколько поспешных шагов по узкой тропинке между высокими слежавшимися сугробами.
Дрожь внезапно ушла, и он увидел, что темнеет. В январе в Ленинграде темнеет рано. Значит уже четыре вечера. Нужно успеть домой пока совсем не стемнело, но до дома ещё двести тридцать шагов.
Он знал это точно – двести тридцать шагов, потому что в этом месте, по дороге с Невы, на бывшем Конногвардейском напротив Дворца труда, всегда приходила слабость и колени начинали дрожать. Там, у Невы ещё были силы, и он вытаскивал ведро с водой по отлогому, обледенелому спуску на четвереньках, как собака помогая себе зубами удерживать за веревку санки. Но здесь, на Конногвардейском напротив бывшего царского дворца, приходила слабость. И ещё приходило безразличие. И тогда он считал каждый шаг и старался прогнать безразличие, которое было страшней, чем слабость. Он считал сколько ещё осталось до дверей на темную лестницу, по которой нужно было пройти вверх ровно 23 ступени – три, потом десять, и потом ещё десять.
Главное – дойти до лестницы. Там придется тащить вверх ведро с водой и санки, но там нет ветра и поэтому кажется теплее. Не надо было сегодня идти за водой – корил он себя. Все силы ушли еще с утра на хлебную очередь, не надо было идти вечером за водой. Вот-вот придет темнота и тогда можно случайно споткнуться о мерзлый труп, и упасть, и никогда не подняться. Он сделал ещё несколько шагов. Тридцать четыре, тридцать пять, тридцать шесть – считал он мысленно на идиш, а вслух шептал благословение на древнееврейском:
Барух Ата, Адонай, Элохейну, Мелех Гаолам… Благословен Ты, Господь, Бог наш, Властелин Вселенной…
О, Господи, где Ты… Эта страшная тьма безжизненных улиц, тьма полная, тьма кромешная без единого огонька, тьма холодная без звуков жизни, тьма холодная со звуками смерти – далекой канонадой и близкими разрывами снарядов. Тепло ушло, хлеб ушел, вода ушла, жизнь уходит из этого города. Второй день погасло электричество, и радио молчит… Пришло наказание Господне за неверие, за поругание, пришло наказание за идолов сотворенных, пришла Казнь Египетская.
Пятьдесят один, пятьдесят два… Барух Ата, Адонай, Элохейну, Мелех Гаолам…
По утрам он ходил за хлебом в булочную у Почтампта. Прежде, когда жена еще могла ходить, она занимала очередь за хлебом, а он ходил за водой на Неву. Но теперь жена уже не может ходить. За хлебом нужно было идти затемно, чтобы хватило. Чтобы, упаси Господь, не услышать от продавца – «хлеб кончился, остальные карточки будут отоварены завтра». По утрам он легко шел в булочную, привычно выбирая путь в полной темноте, потому что по утрам это была другая, утренняя темнота, не такая жуткая, как вечером. Это была темнота дороги к хлебу, темнота, за которой вскоре приходит рассвет. И он шел упорно, пока черные тени очереди не проступали из темноты. Когда бы он ни приходил, черные тени уже стояли. И тогда он шел так быстро, как мог, чтобы поскорее встать в конец. Очередь казалась бесконечной, но страшное базразличие уходило совсем, и он волновался, что ему не достанется хлеба.
В очереди тихо говорили о разном. Сегодня утром говорили о температуре и о радио, говорили, что ночью было минус 40 – такого никто не припомнит, и что без радио перед немцем не устоять. Ещё говорили – Сталин послал генерала Кулика освободить Ленинград, генерал Кулик с целой армией идёт от Москвы к Ленинграду. И ешё говорили – якобы на Мойке органы поймали людоеда, который убил соседку и варил ее мясо. О людоеде сипло говорил старик-дистрофик с выпученными глазами и жутким оскалом на обтянутом почерневшей кожей лице.
В очереди он старался не думать о еде. И ещё – в очереди он пытался не думать ни о чем плохом, чтобы хлеба хватило. В очереди он старался думать о своем велижском ремесле. О далеких молодых годах, когда он целыми днями разделывал свежие куриные и говяжьи туши.
О, он был когда-то настоящим шохетом, признанным мастером своего дела. Таперь думают, что шохет – это простой мясник. Но тогда считали: шохет – это глубоко религиозный и благочестивый человек, советчик и наставник – почти что рабби, к тому же хорошо знающий законы шхиты. Великий Маймонид включил шхиту в число 613 заповедей, обязательных для еврея, а процедура шхиты детально разработана в Талмуде. Он знал и безукоризненно исполнял все правила своего ремесла. Главное в искусстве шхиты – не допустить страдания убиваемого животного. «Закон предписывает, чтобы смерть животного была как можно более легкой и безболезненной» – учил Маймонид. Очень острым ножом без малейшей зазубрины, одним неуловимым двойным движением слева направо и справа налево, нисколько не нажимая на шею, нужно рассечь моментально и почти одновременно трахею, пищевод, сонную артерию и яремную вену. Животное при этом теряет сознание мгновенно, и боль не успевает прийти. Малейшее нарушение этого правила лишает убитое животное кошерности. И список нарушений он тоже хорошо помнил: шхийя – любая задержка или прерывание процедуры, драсах – любое давление ножом на шею животного вместо быстрого движения вдоль, хаграмах – разрез в неположенном месте, иккур – разрыв тканей животного вместо разреза. А еще важно было, чтобы кровь быстро и полностью покинула тело животного.
В половине десятого начинало светать, и черные тени очереди превращались в грязных, изможденных, безобразно замотанных в зимнее людей. Больше было женщин, потому что мужчины скорее слабеют и раньше умирают. Женщины, в мужских брюках и платках поверх пальто, покачивались перед ним в безжизненной предрассветной стуже, медленно продвигаясь вдоль окон булочной. Окна были заделаны мешками с песком и забиты поверх досками, чтобы не было видно, что внутри, и чтобы воры не проникли в неурочный час слизывать крошки с пола за прилавком. По мере продвижения к дверям булочной его волнение нарастало, и когда он наконец входил внутрь, в теплый запах хлеба, дурнота подступала, и он должен был держаться за прилавок, чтобы побороть слабость и не упасть. Приготовив платок для завертывания, он смотрел, как продавец нарезает буханку чёрного хлеба: сначала медленным движением вдоль, а затем быстрыми движениями поперёк. Вот продавец взвесил на две карточки восемь кусочков и ещё крошечный довесок и положил все в протянутый платок. Довесок он сжует по дороге домой – он пытался не думать о хлебе и смотрел на нож продавца.
Он знал толк в ножах. Нож шохета – это орудие мастера. Нож шохета должен быть чистым – без единого пятнышка, гладким – без единой зазубринки или вмятины, и острым, как бритва. Нож шохета делается из самой лучшей стали длиной по крайней мере в два раза больше ширины горла животного, без заострения на конце. Он знал толк в ножах, он знал, как поддерживать совершенство ножа. И он знал, как измерить это совершенство, мягко пропустив лезвие ножа туда и обратно между кончиком пальца и ногтем.
Семьдесят, семьдесят один… Барух Ата, Адонай, Элохейну, Мелех Гаолам…
Дойти домой и лечь в постель, лечь не снимая пальто, закрыться с головой одеялом, согреться собственным дыханием. Не согреться, но хотя бы унять дрожь. Совсем согреться невозможно – голодное тело не дает больше тепла. Возгнушался Господь душами заледенелыми и истребил хлеб, подкрепляющий человека, загасил тепло в теле его. Холод – вот наказание Господне пришло.
О, Господи, где Ты…? Этот страшный, изматывающий, постоянный холод, холод без перерывов, холод везде и всегда. Облако беспощадной стужи спустилось с черного неба и накрыло город. Облако стужи проникло в каждый дом, в каждую постель, под одежду и внутрь тела. Холод снаружи и ещё более страшный холод внутри. Внутренний холод – как будто тебя щекочут изнутри, щекотка, охватывающая всё тело от головы до пальцев ног. Постоянный внутренний холод, не дающий забыться и уснуть.
Сначала он согреет воду и даст жене попить теплой воды. И согреет руки о теплую кружку. Раньше, по вечерам, он варил студень из столярного клея. У жены чудом сохранилось немного горчицы – с горчицей удавалось проглатывать вонючее месиво. В месиве были спасительные белки, спасительные калории. Он работал до войны переплётчиком, и ему казалось, что запасенного клея хватит надолго, но это только казалось. Так было со всеми запасами. Картошка и крупа кончились ещё в ноябре, черные сухари и рыбий жир из аптеки – в декабре, столярный клей и горчица – в январе. Прежде зачем то выбрасывали картофельную шелуху, раньше почему то не закупали на все деньги рыбьего жиру пока он был в аптеке. Почему? Потому что Господь помутил разум.
Он заметил, что жена стала опухать от голода, и опухшее лицо её налилось какой-то синеватой водой. Сосед, ещё нестарый человек, научный работник, тоже сначала распух, а потом спал с лица и почернел лицом, и почерневшая кожа, истончившись, иссохнув, обнажила зубы во рту, из которого всё время вытекала слюна. Но когда он нашел соседа мертвым, лица у него совсем не было – крысы объели всё до костей. Казалось, он уже безразличен к мертвым – смерть была везде вокруг, смерть являлась на каждом шагу в самом безобразном обличьи. Но сосед без лица ужаснул его. Теперь, возвращаясь домой, он опасался найти жену мертвой, и он проверял нет ли на её лице вшей – когда человек умирает, вши выползают наружу.
Сосед без лица так и лежит в своей комнате. Только бы прийти домой и лечь в постель…
Длинными, черными вечерами и ночами он лежал неподвижно, в полузабытьи. И когда были силы, чтобы думать, когда тошнотворное безразличие чуть отпускало, он вспоминал город своей молодости Велиж. Не блистательный довоенный Ленинград – бывшую столицу великой империи, в которой ему посчастливилось жить больше десяти лет, а крошечный провинциальный Велиж с его деревянными домишками, криво сбегавшими к берегам тихой Западной Двины. Он видел своего отца – велижского резника, с седыми пейсами и бородой, в круглой меховой шапке и очках на кончике носа, с раскрытой Торой в руках. Отец, да будет благословенна его память, не дожил до Революции, отец не узнал, что его внуки забыли Закон и стали коммунистами. Ему виделись печальные глаза отца из-под очков. Нет, отец не осуждал его и внуков. Нельзя требовать от всех праведных подвигов библейского Иова – говорили печальные отцовские глаза. Страдание и жалость к сыну и внукам излучали печальные отцовские глаза – не по своей воле пришли они в царство Амана, не по своей воле стали поклоняться идолам. Он то знал, что по своей...
Он родился в Велиже в том же году, что и Великий Вождь – они с Вождём ровесники, обоим пошел 63-й год. И оба поначалу избрали путь служения Богу. У велижского резника Мовше и его жены Двойры было трое детей – два сына, Гершен и Исаак, и дочь Бася. Профессия резника считалась наследственной. Он был младшим сыном, но отец передал ему своё место велижского резника. Старший брат Гершен не захотел быть резником и пошел учиться на провизора, и тогда отец научил его своему ремеслу и передал ему свою профессию. Ему пришлось осилить Талмуд и Шульхан Арух, чтобы знать все тонкости шхиты и кашрута и чтобы сдать экзамен строгим раввинам в Любавичах. Ему пришлось много тренироваться, прежде чем он научился не нарушать кошерности убиваемых животных. Когда он впервые взял в руки нож шохета, в Велиже было почти 6000 евреев – половина всего населения, и все 6000 соблюдали Закон и кашрут. В Велиже была синагога и пять молельных домов, и все шли к нему, чтобы готовить пищу по законам Торы. А ещё приезжали из местечек Ильино и Усвят. Работы хватало, и его семья не знала бедности.
О, эти благословенные годы начала века – вспоминал он. После Велижского дела евреи жили здесь относительно спокойно. Их миновали погромы после убийства Александра II – царя Освободителя. Даже еврейские ремесленные училища открылись – казенное мужское и частное женское. Отец часто бывал в Любавичах чтобы потолковать с мудрецами любавичской ешивы – центра еврейской учености всей Белоруссии. Там отец и сосватал ему невесту Ривку – дочь любавичского раввина Давида Якобсона. Обручение и свадьба проходили в Любавичах – родители невесты несли все заботы. А потом он с отцом и матерью увозил жену к себе в Велиж. Ему тогда только что минуло 19 лет. В последний год уходящего XIX века Рая родила ему дочку Иду, а потом появились Пиня, Абрам, Минна, Рахиль, а в девятом году – маленький Бенчик.
Сто два, сто три… Барух Ата, Адонай, Элохейну, Мелех Гаолам …
Маленький Бенчик… О, Господь, Бог наш, будь милостив… Бенцион опять на фронте. Воевал на Финской, потом пошел воевать против немцев, лежал раненный, теперь опять где-то воюет. Писем нет. Пока почта ходила, Абрам из госпиталя писал. Господь милостив, Абрам ранен в грудь и руку неопасно. Теперь, наверное, уже вылечился.
Дети… Только Минна умерла ребенком, все остальные, Господь милосерден, выросли, в большие люди вышли. Старшая Ида стала ученой, историком, замужем за московским адвокатом, за самим Хавинсоном. Пиня – завмаг, Абрам – на партийной работе в самом Смольном. Рахиль – тоже образованная, педагог. Влюбилась в русского, родила от него дочку, а потом Господь покарал – в тюрьму попала, как жена врага народа, расстрелянного, хотя и не жена никакая. В Казахстан сослали, а дочку Наташу – в детдом. Господь милостив, выпустили Рахиль из тюрьмы – Хавинсон доказал, что не жена она расстрелянному... Жили все в Москве и Ленинграде. Теперь всех судьба и война разметала…
А более всего разметала всех революция и новая жизнь. Жили все вместе, одной семьей в Велиже. Сначала старшая дочь Ида – ещё совсем девчонка – пошла к социалистам в Бунд, а после революции записалась в большевики, уехала в Москву. Потом Абрам пошел в комсомол, уехал в Ленинград, стал коммунистом. Дети атеистами стали, Закон давно забыли. Бога нет, говорят. Большевики дали евреям то, что Бог тысячи лет обещал. Большевики строят рай на Земле, а не на Небесах. И построят, дадут счастье всем людям на Земле, всему Интернационалу. И нечего было ему детям возразить, потому что поначалу всё, о чём они говорили, чудесным образом сбывалось. И не было рядом отца, в вере неколебимого. И нетвердым стал он сам в своей вере. И сомнения размывали его веру, но ведь и пророки сомневались…
Вот оно, счастье обещанное, вокруг… Господь разгневался и навел на всех меч вражеский в отмщение за завет, в отмщение за богохульство, в отмщение за неверие и сомнение, за поругание Закона.
Внезапно начался артобстрел. Он остановился без сил и стал слушать, где рвутся снаряды. Снаряды взрывались севернее, в районе судостроительных заводов на Неве и за Невой на Васильевском острове. Он не пугался артобстрела, он привык к нему. Артобстрелы стали обыденными в этой жизни. Как начался голод, никто уже не боялся бомбёжек и артобстрелов. Ничто не могло сравниться со страхом и мукой голода. Голод затмевал все, голод подавлял все мысли и все другие страхи. Голод начался в ноябре, когда дали по 125 грамм хлеба на иждивенцев. Но тогда, в ноябре это был не настоящий голод – у них с женой ещё были кое-какие припасы. Настоящий голод начался в конце декабря, когда все было съедено. И, когда жмыхи и столярный клей подошли к концу, пришло наказание Господне, пришел голод лютый и раздался вопль великий, какого не бывало и какого не будет, и стали люди есть плоть ближних своих.
Сто двадцть, сто двадцать один… Барух Ата, Адонай, Элохейну, Мелех Гаолам…
Когда дети разъехались из Велижа, он с женой Раей тоже решил покинуть бывшую черту оседлости, родной город, где предки жили целое столетие. Профессия его оказалась совсем ненужной и даже вредной для новой жизни – он стал последним шохетом в Велиже. Куда поехать – в Москву или в Ленинград? В Москве жили две дочери, в Ленинграде – три сына. Поехали в Ленинград. В Ленинграде потребовалось заполнить анкету на прописку. Трудным оказался вопрос: «Род занятий до 1917 года». Его профессия резника подпадала под название «Работник культа». С таким «родом занятий» о прописке думать не приходилось. Думали, как поступить, всей семьей и придумали. Он написал: «Культработник». Пронесло – прописали. Потом он утроился в артель переплётных работ и, как трудящийся пролетарий, получил для жилья комнату в коммунальной квартире на улице Чайковского.
Это было для него с Раей неплохое время. Пошли внуки. Сначала подряд три девочки у Иды, Пини и Рахили, потом два мальчика у Абрама и Бенциона. Рая была счастлива, да и ему казалось – Господь с детьми заодно, Господь смилостивился, Господь терпим к отступникам, Господь не против большевиков. Но счастье это продожалось недолго. В 36-м Рая заболела раком груди и вскоре умерла – он остался один. В 37-м арестовали и сослали Рахиль, а внучку Наташу определили в детдом. Он поехал в Москву забирать внучку. Никто другой не решался это сделать – дочка врага народа. Привез одичавшую девочку в Ленинград, поместил её в семью Абрама. Тоскливо было ему одному в комнате на Чайковского. Он женился второй раз и переехал к жене на Почтамптскую, поближе к синагоге. Ленинградская синагога – не чета велижской, построена самим бароном Гинцбургом. Настоящий Храм Иерусалимский, да будет благословен Господь, Бог наш, Властелин Вселенной… Только вот молящихся было больше в маленькой велижской синагоге, чем в огромном ленинградском храме. Да и те немногие, что приходили по субботам, все были старики, молодых не было.
Сто сорок, сто сорок один… Барух Ата, Адонай, Элохейну, Мелех Гаолам…
От Пини никаких вестей. Как записался добровольцем в июле, так и сгинул – ни письма, ни извещения. Может быть, Эмма – жена его, какую-то весть имеет, но как добраться до неё через весь город на улицу Марата. Да и жива ли сама… А если умерла, где теперь внучка Сарочка… Только старший сын Пиня послушался отца – дал внучке еврейское имя. Всем другим внукам дали гойские имена – Майя, Наталья, Роальд, Юрий. Рая, да будет благословенна её память, нарадовалась при жизни внуками. Только младшего Юрочку не дождалась. Роальд и Юра эвакуированы. Увезли их невестки в Галич, потом ещё куда-то далеко – Абрам писал. Одна Сарочка осталась в Ленинграде. Жива ли? Не уехали, всё вестей от Пини ждали, а потом уже поздно стало. Не успели уехать…
Сто пятьдесят, сто пятьдесят один… Барух Ата, Адонай, Элохейну…
Снаряд разорвался где-то совсем близко, и было слышно, как стена дома рушится на землю. Он потянул веревку, оступился и неловко присел на краешек санок, обхватив руками заледенелое ведро с водой. Дрожь снова вернулась, вошла внутрь и мелко, неудержимо затрясла его, приближая муку последнюю. Господь дал, Господь взял, да будет имя Господне благословенно!
Огонь пожара от разрыва фугасного снаряда высветил на мгновение в черном, безжизненном провале улицы скорченное, дрожащее живое существо между снежных сугробов… И если кто-нибудь мог бы услышать, что шептали в последней судороге его холодеющие губы, то услашал бы вечный призыв, с которым вот уже две тысячи лет идут на смерть иудейские мученики: «Шема, Исраэль!»…
Юрий Окунев
2001, Heritage Village, Southbury, Connecticut